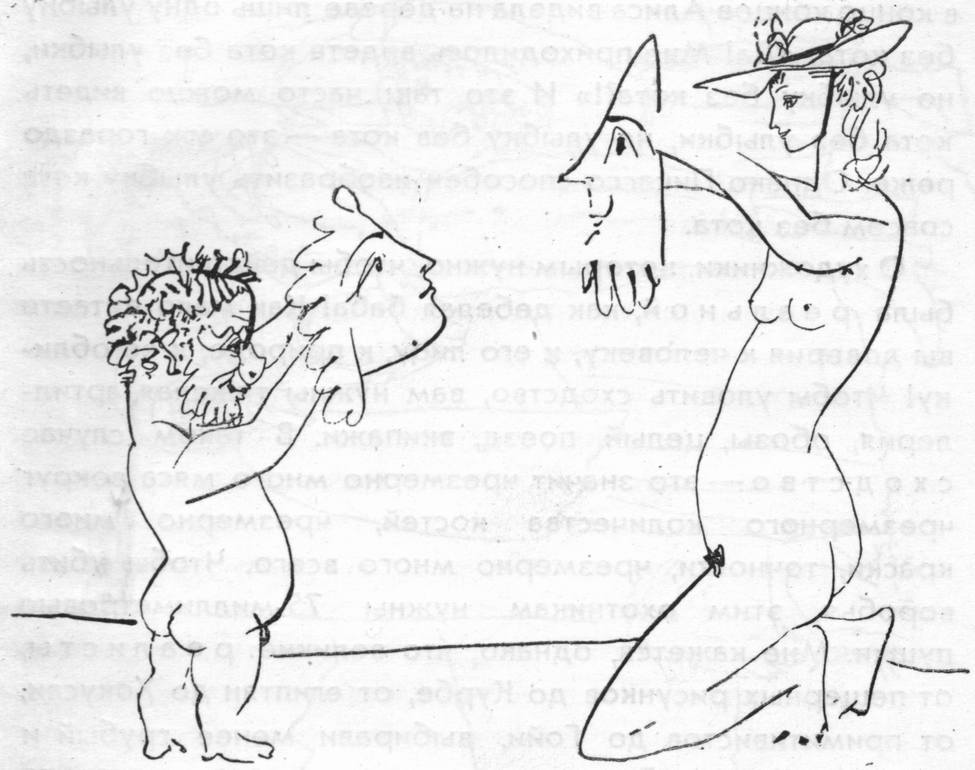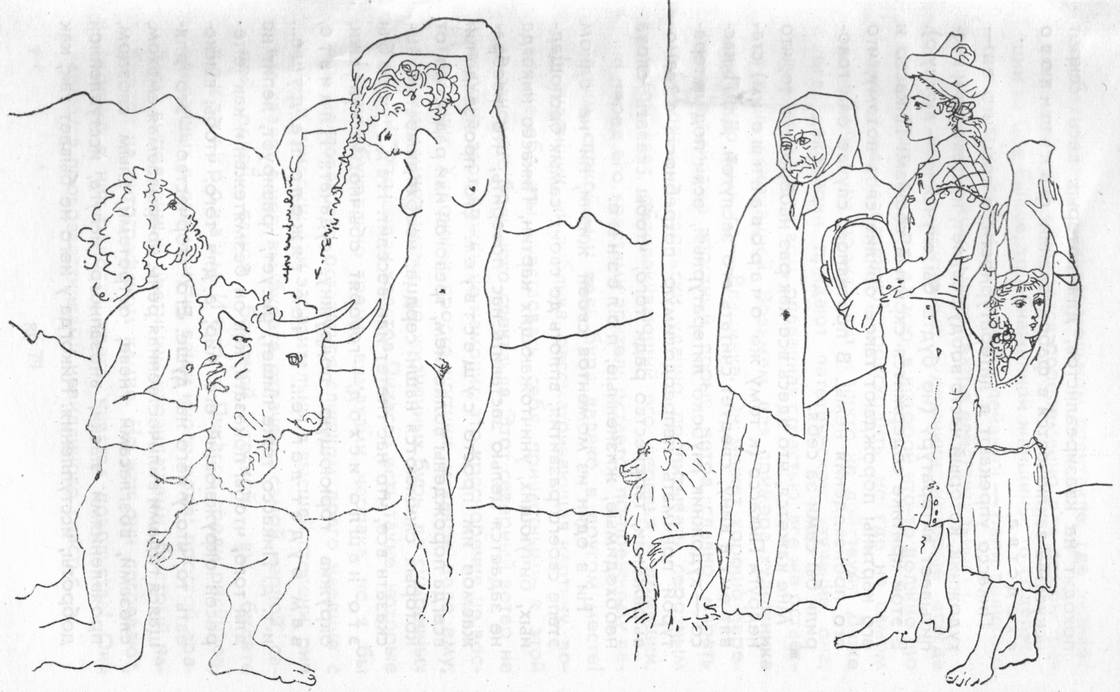а находил их.
|
Клод Руа. «Сила надежды»Всякого рода узурпаторы, плуты, ловкачи, псевдопрорицатели, имитаторы и шарлатаны-ясновидцы с большим недоверием относятся к искусству, продиктованному пророческим подсознанием, подлинным предчувствием. Конечно, было бы смешно объявлять все творчество Пикассо каким-то необыкновенным начинанием, призванным перевернуть вселенную с такой же легкостью, с какой медиумы вращают столы. Но нередко Пикассо действительно поражает нас своего рода слепым неистовством и вместе с тем своей прозорливостью, смутным, сильным беспокойством, смысл которого ускользает и всплывает лишь в последствии. X. Сабарта поведал нам, что 17 мая 1940 года Пикассо возвратился из Парижа в Руайан, где он жил начиная с 1939 года. Когда радио объявило о лавине немцев, неотвратимо, с грохотом двигавшихся на Руайан, Пикассо заперся в своем ателье, где за полдня сделал два эскиза. Пикассо еще не видел немецких солдат, но для воплощения душевной боли его палитра подсказала ему тона, соответствовавшие расцветке нацистских колонн, вторгшихся воскресным вечером в Руайан: мрачный серовато-зеленый, коричневые и пепельно-желтые. Отвратительные, искаженные, гнусные физиономии, созданные воображением Пикассо, — это было подлинное лицо войны, беззакония, несчастья, бессмысленного, неотвратимого, лицо беды с раскрытой пастью, мертвыми глазами и неслышащими ушами. В то время, когда Пикассо был занят выполнением этих двух поистине пророческих эскизов, я шагал, подгоняемый прикладами, в колонне военнопленных, а по дорогам Лотарингии нам навстречу спускались к югу поющие колонны нацистов. Но для меня памятью об этих днях страдания и унижения, о поражении, нанесенном нам этими загорелыми бронированными когортами, являются не подлинные фотографии, которые должны были бы возбуждать во мне чувство горечи и отвращения; мне кажутся гораздо более правдивыми картины, в которых Пикассо дал волю своему смятению, своей печали. Если бы нашелся французский художник, достаточно независимый для того, чтобы сесть у обочины дороги и изобразить захватчиков, о которых Поль Элюар позже писал: Великие своим оружием, если бы художник представил их такими, какими они были в действительности — дюжими, обветренными парнями, марширующими быстрым, твердым шагом, — разве такая картина была бы достойным произведением реалиста? Даже если бы художник был гениальным и сумел противопоставить этим несокрушимым победоносным колоннам печальное зрелище пленных по сторонам дороги, слезы в глазах жителей — разве тогда физический облик, внешний вид немецких солдат раскрыл бы подлинный смысл картины вступления немцев во Францию? И разве не раскрыл подлинный смысл этой реальности Пикассо? Как и сегодня, он был тогда неподкупным свидетелем, ясновидящим и вдохновенным врагом, величайшим изобличителем войн, которыми нас окружают, которыми нам угрожают.
— Я не всегда работаю с натуры, но всегда в соответствии с натурой (подлинные слова Пикассо). Когда «Война» и «Мир» только зарождались, когда замысел, сначала едва ощутимо, а затем непреодолимо стал овладевать художником, альбомы для набросков, которые Пикассо заполнял с лихорадочной быстротой, казались мне сходными с нотной тетрадью композитора, где темы намечаются, смешиваются, делают внезапный поворот, где все находится еще в стадии поисков и попыток, предчувствий и творческих колебаний. Но два образа, вокруг которых кристаллизуется творческая мысль Пикассо, ему особенно близки. Он всегда был зачарован ночными птицами, хищниками тьмы, и постоянно колебался в выборе между совой, лукавой, мудрой птицей, амулетом ясновидящей Афины, и сычом, мрачным бродягой, символом зловещих предзнаменований. Побеждает надмогильный сыч, чтобы стать воплощением угроз, тревоги. Эта мрачная тема противопоставляется лейтмотиву, повседневно звучащему в творениях художника, — светлой, радостной ноте, рожденной смехом детей, их веселыми играми; символом ее становится тема хоровода. Пикассо упорно повторяет эти исходные мотивы; он накапливает наброски, как исполняют гаммы, для того, чтобы выражение его мысли стало совершенно непринужденным, хотелось бы сказать — автоматическим. Он стремится к тому, чтобы его рука стала совершенно свободной и чтобы при воплощении того, что он глубоко продумал и что хотел показать, его исполнение было совершенно самопроизвольным, не зависящим от его устремлений, было подлинной импровизацией. Поль Элюар рассказывал мне однажды, что он видел, как Пикассо тренировался, рисуя с закрытыми глазами лицо человека; затем он рисовал его же в абсолютной темноте, держа лист бумаги на оборотной стороне планшета. И это не из пристрастия к акробатике, к игре в виртуозность. Пикассо хотел добиться такого автоматизма руки, когда нельзя сказать — сознание водит рукой или рука ведет за собой сознание, что преобладает здесь: рука — сознание или сознание — рука. Рисунок стал почерком, языком, столь же прозрачным, как зеркало. Но это овладение свободой выражения — результат длительного, непрерывного, изнуряющего труда, бесчисленных набросков в его записных книжках, тех книжках, перелистывая которые, мы в изумлении опять узнаем то, что уже давно знали: что гений — это прежде всего огромное терпение. Пикассо не замыкается в самом себе. В борьбе он находит свое место. Пикассо всегда отправляется от действительности, но, как бы далеко он ни уходил от нее, он, даже внешне отвлекаясь от нее, никогда не изменяет ей. Говорят, что Пикассо непостоянен, беспокоен, неустойчив, изменчив. Между тем, я не знаю художника, обнаруживающего большую верность темам, большее упорство в поисках окончательного решения. Пикассо обладает изумительной последовательностью мысли. Без всякого недоброжелательства следует указать на пережевывание, перетряхивание им одного и того же. Таков Бах: музыкант исполняет лишь вариации и фуги. Но можно ли сказать, что он повторяется? Творческий процесс у Пикассо всегда почти один и тот же. Это раскрывают сюиты его рисунков. Шедеврами являются не только картины, но часто и сопутствующие им наброски. Пикассо не зачеркивает, он улучшает. Он продвигается к цели постепенно, последовательными этапами. Темы коня, запряженного в похоронные дроги, чудовища с головой орла, «богини Мира» разрабатывались Пикассо так же, как и цветы, созданные им в тот же период и составившие восхитительную сюиту: с каждым «новым рисунком букет цветов становится более изысканным, невесомым. Вскоре на белом листе остается всего лишь арабеск, безукоризненный по стилю и возвращающий нас к тому, что поражало в первом наброске, — к передаче аромата цветка через его форму: воспоминание о воспоминании. Что бы ни создавал Пикассо — чудовищ, птиц, цветы, человеческие лица, — творческий ритм всегда одинаков. Первые рисунки серий явились бы источником большой радости для тех «любителей», которые хотят только того, чтобы рисунок с самого начала был похож, а портрет был «вылитой» копией того, кого изображает. Пикассо позволяет себе лишь сначала быть достоверным, послушным, покорным, почтительным, терпеливым, точным и т. д. (Слыша эти эпитеты, можно подумать, что это похвалы настоятельницы монастыря сиротке. «Я не нахожу достаточных выражений, чтобы отрекомендовать вам это дитя; вы будете вполне удовлетворены: дитя послушно, покорно, почтительно, нежно, как агнец», и т. д.) Каждый новый рисунок исправляет предыдущий, и в этом смысл сюиты. При ее создании для Пикассо важно уловить миг, когда рука становится совершенно свободной, а рисунок внешне автоматическим. Сходство Пикассо схватывает мимоходом, как бы шутя, но схватывает прочно. «Каким бы вы гением ни были, — говорит Энгр, — если вы будете писать не натуру, уже известную вам, а точно следуя модели, вы будете всегда рабом и ваша картина будет лишь рабской копией. Рафаэль, напротив, настолько владел натурой, настолько сохранял ее в памяти, что не она управляла им, а, как говорили, сама повиновалась ему».
По мере того как Пикассо заполняет книжки набросков и лист следует за листом, он подчиняет себе натуру, руку, добивается сходства и т. д. Мне кажется, что я вижу, как у меня на глазах рождается почерк. В конечном итоге рисунок — это не более чем три карандашных штриха, продолжающие все же непоколебимо, неподкупно изображать. Куда бы ни уводила Пикассо та своеобразная независимость, которую приобрели его рука и сознание, сходство чудесным образом всегда сохраняется. Оно столь же неизменно, как улыбка чеширского кота из «Алисы в стране чудес». Этот кот, улыбаясь, постепенно исчезал, начиная с кончика хвоста, пока не скрывался совсем; в конце концов Алиса видела на дереве лишь одну улыбку без кота. «Да! Мне приходилось видеть кота без улыбки, но улыбку без кота?!» И это так: часто можно видеть кота без улыбки, но улыбку без кота — это уж гораздо реже. Однако Пикассо способен изобразить улыбку кота совсем без кота. О художники, которым нужно, чтобы действительность была реальной, как дебелая баба! Как мало питаете вы доверия к человеку, к его лицу, к природе, к ее облику! Чтобы уловить сходство, вам нужны тяжелая артиллерия, обозы, целый поезд, экипажи. В таком случае сходство — это значит чрезмерно много мяса вокруг чрезмерного количества костей, чрезмерно много краски, точности, чрезмерно много всего. Чтобы убить воробья, этим охотникам нужны 75-миллиметровые пушки. Мне кажется, однако, что великие реалисты, от пещерных рисунков до Курбе, от египтян до Хокусаи, от примитивистов до Гойи, выбирали менее грубый и варварский путь. Реализм в искусстве — это не только эстетическое понятие; он не определяется приемами мастерства, навыками копииста; это не подражание действительности, обман зрения. Реализм является также — и мне хочется это подчеркнуть — по преимуществу этическим понятием. Реализм — это прежде всего выбор художником такого объекта, который является главным, основным для окружающих его людей. Если художник — человек каменного века, он говорит об охоте, о дичи, о том, что жизненно важно для его племени. Если он человек средневековья, он говорит об евангелии, о церкви, о святых. Гойя повествует о войне и о борьбе своего народа. Импрессионисты рассказывают нам о своих странах, о пейзажах, о небе, о своих женщинах и детях. Пикассо говорит нам и себе о предметах, живущих в наших сердцах, о том, что является плотью нашей плоти, оплотом нашей судьбы. Но каков бы ни был язык, избранный или изобретенный им, Пикассо никогда не походит на квазиреалистов, для которых весь секрет искусства заключается в фабриковании фальшивого сходства.
Пикассо упрекают в литературности, в том, что он — художник, который часто воодушевляет, наставляет и воспитывает литературу (но будто бы случайно — лучшую). В этой критике содержится скрытый софизм: Пикассо и его картины порождают такое обилие слов потому, что его произведения немы. В противном случае они говорили бы сами за себя. Мне кажется, что здесь все как раз наоборот, и то, что недруги Пикассо (к тому же очарованные им) ставят ему в вину, следует считать его заслугой. Да, Пикассо — художник глубоко литературный, если под литературой понимать непреодолимую потребность в самовыражении, творчество ради того, чтобы сказать слова необходимые, жизненные, полезные. Ни в один из моментов своей жизни, ни на одном этапе своего развития, вплоть до своих самых беспощадных, бичующих, уничтожающих картин, Пикассо никогда не задается целью заставить нас поверить, что изображаемое им просто существует. Его произведения всегда порождены волнением, тревогой или радостью, от которых сжимаются наши сердца, необходимостью высказать все, что нас гнетет или веселит. Надо, чтобы это нашло исход, — говорят обычно. И кумушки, окружив горюющую подружку, судачат: Плачьте, вам будет легче... У нее тяжело на душе... и т. д. Пикассо тоже пишет, рисует, гравирует, лепит не для того, чтобы показать, как он безмятежен и как интересен окружающий его мир, а для того, чтобы высказать то, что у него на душе. Его творчество — это длящаяся годами величественная речь, прерываемая смехом, слезами, возгласами гнева, остротами, злым словцом, проявлениями ласки, внезапного испуга, исступленной доброты, исступления. Никогда у него не бывает так, как на безмятежно развлекательном спектакле, где занавес поднимается и опускается попеременно для демонстрации то боя быков, то обнаженной женщины, то содержательницы кофейни, животного, пейзажа — ради великого и прекрасного кукольного театра действительности. Есть весьма почтенные художники, которые всегда пишут лишь декорацию, в которой что-то должно (по самому ее назначению) происходить, но где на самом деле ничего не происходит и никто не действует. Даже когда декорации придают патетическое звучание, она, оживленная чувством, опаленная страстью, все же остается лишь декорацией. Возьмем для примера художника особенно ловкого — Вламинка. Он может хорошо передать в пейзаже яростный порыв ветра, славно марать свои «ню», дьявольски удачно пропитывать серозным дымом свет, обволакивающий его деревья и домишки, но перед его холстами зритель остается по-прежнему веселым, спокойным: ведь буря далеко, в другом месте! Ни художник, ни публика, рассматривающая картину, вовсе не обязаны чувствовать себя причастными к этой мизансцене большого спектакля. Этот северный ветер не остудит, этот дождь не намочит, это красноречие не воспламенит. Художник просто шутник, и какое дело ему, занятому имитациями, до жизненных бурь, до сумрачных времен! Зато среди холстов Пикассо есть такие, которые сделаны буквально тремя взмахами черпака, но я бы вам не советовал оставаться слишком долго наедине с ними в сумерки: они заразительны в высшей степени, они вас свалят с ног, вы будете охвачены самой черной, самой едкой, самой бешеной тоской, вы будете нокаутированы. И есть у Пикассо среди рисунков, сделанных в две минуты, вещи иного рода: простой арабеск, выполненный цветными карандашами, быстрый набросок на литографском камне. Но как они согревают, сколько в них радости, света, чувства довольства! Они являются провозвестниками невиданного счастья. Всегда опасно, потому что всегда субъективно, говорить об искренности художника. Я допускаю, что можно отказаться от употребления многих слов, обычно произносимых по поводу произведений искусства: достоверное, волнующее, могучее и т. д., но можно ли отказаться от оценки искреннее; дает ли она нам что-нибудь? Да, она дает многое. В ней заключено то, от чего мороз подирает по коже, и то, от чего нас бросает в жар. Искренность не измеряется весами или термометром, ее не определишь по компасу. Но всегда наступает момент (его приход можно лишь оттянуть), когда суждение об искусстве сводится к словам: это чувствуется. И то, что чувствуется у Пикассо, — это полнота сердца, это сила надежды, это искренность человека. Когда такой человек пишет «Войну» и «Мир», он пишет их не потому, что кто-то требовал от него или побуждал его писать это, а не море, или бой быков, или нимф. Он пишет «Войну» и «Мир» потому, что ему необходимо освободить себя, освободить нас от этой большой темы-наваждения. Поставленный, как и все люди, перед выбором своего места в жизни, Пикассо давно избрал то, что до него избрали Гойя и Домье, Курбе и Ван-Гог. На этот выбор должно было натолкнуть Пикассо великолепное письмо Ван-Гога (1884) к Тео, в котором Ван-Гог говорит, что, если бы поднялись новые баррикады, как в 1848 году, он был бы «по ту сторону, как революционер или мятежник». Будущее показывает тому, кто выбирает путь Гизо, и тому, кто выбирает путь Мишле, как это было в 1848 году, что прав был не первый, а второй. При одном и том же повороте колеса один теряет почву под ногами, другой, напротив, оставляет нечто непреходящее. Пикассо избрал путь, на котором создал «нечто непреходящее».
|
|
© 2024 Пабло Пикассо. При заимствовании информации с сайта ссылка на источник обязательна. |